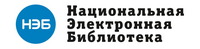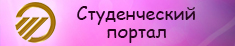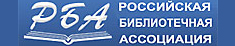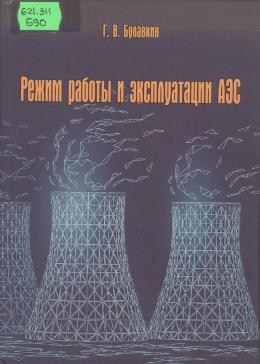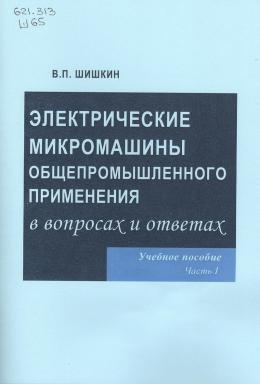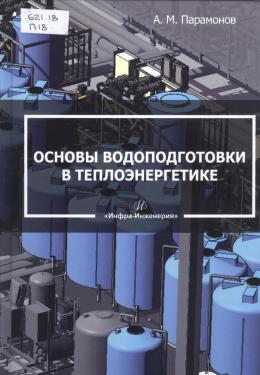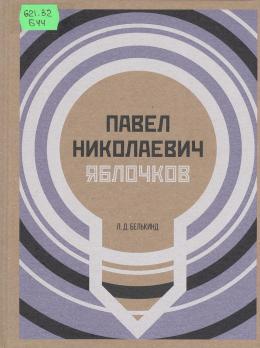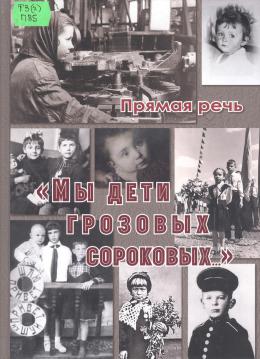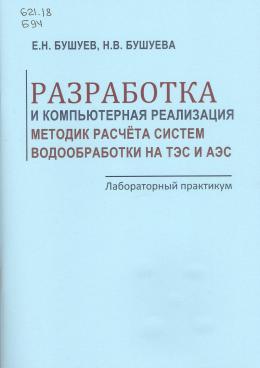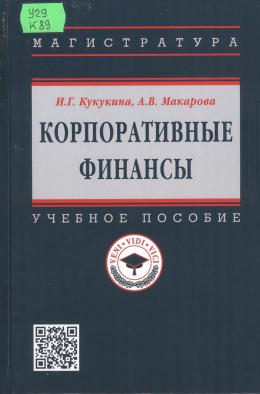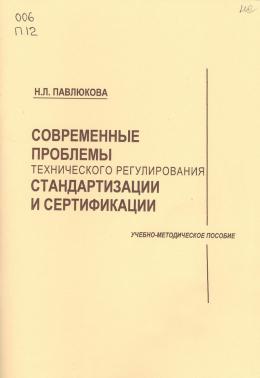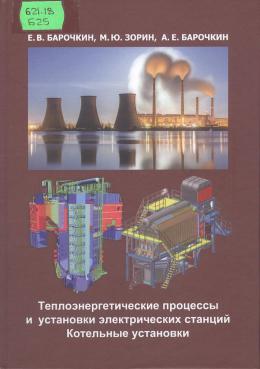Растиражированная цитата из романа «Жизнь Арсеньева» отражает позицию автора на предмет обсуждения. В уста Алексея Арсеньева Бунин вкладывает свое понимание таких категорий как долг, революция и революционеры, общественное дело и его развитие: «Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно упоения, — как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешённый от действительности и её презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчёту, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что, — «карету мне, карету!»»
Сентенции на тему далеки от научного анализа, они «чувственны», но потому и подлинны. Нескрываемое раздражение беспочвенной мечтой о «молочных берегах», но еще большее негодование вызывают «бунтовщики», « отрешенные от действительности». Бунт неизбежно нарушает нормальный ход жизни. Поколение Бунина сполна вкусило «прелести» революции, переформатировавшей жизнь сотен миллионов людей. Однако, не самому ли себе русский интеллигент должен предъявить претензию в непротивлении экстремистским проявлениям в своей же собственной среде, явившемся непреложным фактором революционизации страны? Подобные упреки в адрес русской интеллигенции В. О. Ключевский трансформировал в классификацию, разделив ее (интеллигенцию) на три группы - «лоскутных миросозерцателей», «сектантов без способности к мышлению», «либеральных или консервативных оппортунистов с пустыми словами и аппетитами». Этот уничижительный диагноз прозвучал как обвинительный приговор в неэффективности, пустословии и позёрстве. Смута стала проверкой на прочность, беспощадной расплатой за «чистоту крови» и поставила каждого перед гражданским выбором. Для самого Бунина выбора не существовало. Он слишком органично вписывался в старую формацию. И совершенно естественным шагом с его стороны стало участие в деятельности основанного генералом Антоном Деникиным агентства ОСВАГ (Отдела пропаганды при Добровольческой армии). Более того, в частных разговорах он периодически упоминал о желании вступить в Добровольческую армию, чего, к счастью, не произошло, так как в этом случае Бунин мог погибнуть как воин, на поле сражения. С учётом того, что писатель выражает общественную активность с помощью пера, можно констатировать вполне определённую гражданскую позицию. Более того, лекция «Великий дурман», прочитанная Буниным дважды — 8 (21) сентября и 20 сентября (3 октября) 1919 г. — в Большой химической аудитории Новороссийского университета в Одессе и произведшая на слушателей ошеломительное впечатление, отражает категоричное мнение писателя на предмет. Главная идея лекции заключалась в том, что любая революция, какими бы прекрасными ни были ее цели, — это всегда зло, разрушение, насилие над человеческой личностью и большевизм с его бешеной нетерпимостью к политическим противникам и «чрезвычайками» — логическое продолжение «великой русской революции». В «Великом дурмане» речь шла о той (по мнению Бунина, безусловно отрицательной) роли, которую в революции сыграли русская интеллигенция и русский народ. По дневникам писателя за 1916–1918 гг. видно, как нарастало его раздражение против интеллигенции, которая, с точки зрения автора «Деревни», при всем своем народолюбии не знала собственного народа, идеализировала его, преувеличивая его нравственные качества. Параллельно с этим усиливалось и бунинское негодование на сам народ за его «атавистическую» тягу к «саморазорению», за его общественно-политическую индифферентность. Своеобразным итогом многолетних «социологических» наблюдений Бунина за развитием общественно-политической ситуации в стране стали его слова, записанные женой Бунина - Верой Николаевной - 9 (22) ноября 1918 г., уже в Одессе. Эти слова можно считать своего рода идейной квинтэссенцией «Великого дурмана»: «Высшие классы — это действенные классы, а народ — аморфная масса. Так называемая интеллигенция и писатели — это кобель на привязи, кто ни пройдет, так и брешет, из ошейника вылезает».
В этой связи весьма показателен рассказанный Валентином Катаевым сюжет, который демонстрирует непримиримость Бунина к социальным изменениям, «веру в чудо» - на возврат старой жизни, «на круги своя», и личную готовность к сопротивлению в момент опасности. Итак, из воспоминаний поклонника и ученика Ивана Алексеевича - Валентина Петровича Катаева «Трава забвения».
С. А. Матвеева
По материалам изданий "Устами Буниных" ,
И. А. Бакунцева "Лекция И. А. Бунина "Великий дурман" и
ее роль в личной и творческой судьбе писателя"
Категория: